Железной рукой-по языку!
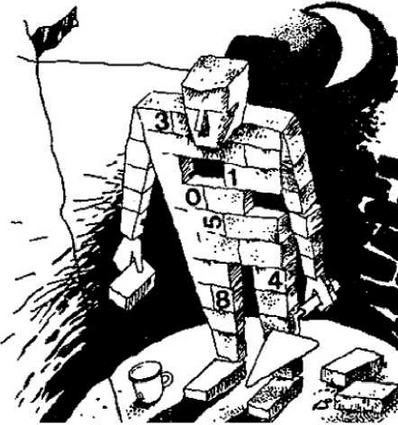
Специалисты уверяют, что регулировать жизнь языка — в отличие от жизни его носителей — невозможно: это самостоятельная, саморазвивающаяся система, которая подчиняется только внутренним законам. Полно, так ли?
Сорят тут всякие, засоряют наш Великий, Могучий и Прекрасный. Что ж, на них и управы никакой нет?
Есть, конечно. И есть рецепты, как манипулировать сознанием подданных именно с помощью языка. Самый знаменитый повторен многократно на разных сайтах — замечательный рецепт новояза, изложенный Оруэллом в антиутопии «1984». Вот как это излагается в Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki). Старый английский, основа новояза, делится на три словаря: повседневный, в котором «не было слов, позволяющих рассуждать о абстрактных концепциях», а оставшиеся слова очищены «от неясностей и смысловых оттенков»; идеологический, специально сконструированный, самый главный и словарь для специалистов, состоящий исключительно из научных и технических терминов. Словарный запас языка сводился к минимуму, а вместе с ним и возможности свободного мышления (кстати, слово «свободный» на новоязе употреблялось исключительно в оборотах типа «туалет свободен» и никаких иных смыслов не имело). Все слова, связанные с понятиями «свобода» и «равенство», заменялись одним словом «мыслепреступление»; с сексом «для удовольствия» — «зло- секс», с понятием «объективность» — «старомыслие» и т.д. «В результате даже если у человека возникала мысль, связанная с одним из этих понятий, у него не было слов, позволяющих как- то выразить ее значение, кроме тех, которые означали лишь то, что эта мысль вредна».
Слова, изменяя своему прямому назначению, начинали лгать: «Министерство правды» занималось фальсификацией истории, а каторжный лагерь назывался «лагерем радости». Слова без конца сращивались друг с другом до состояния аббревиатур, что совсем не характерно для «старого» английского, зато очень популярно в немецком и русском-советском. Грамматика упрощалась предельно, чтобы хоть какую-то мысль, тем более — разветвленную, поместить в оставшиеся конструкции было невозможно. На радость школьникам все похожие слова изменялись по родам-числам-падежам одинаково, и из любого слова легко образовывалось любое другое.

Плакаты А.Родченко, 1923 год
Все это, конечно, утопия, пусть и «анти»; но Оруэлл не зря при написании романа изучал опыт пропаганды в фашистской Германии и в СССР: ему удалось нащупать самые болевые точки языка, воздействуя на которые, можно обуздать способность человека не просто к самостоятельному мышлению, но и к полноценному мышлению вообще. Такое активное целенаправленное воздействие на язык у нас началось в 30-е годы и продолжалось до конца советской власти. (В Google 11 400 ответов на запрос «советский новояз».) При этом советский народ остался в глубоком убеждении, что он — продолжатель великой русской культуры, ее носитель и хранитель, и что он может говорить (при случае) на великом языке этой культуры. Как раз печальная судьба русской классической литературы в советской школе может служить великолепной иллюстрацией того, что при соответствующей обработке никакое богатство мировой и национальной культуры не спасет последующие поколения от заточенного под определенным углом недомыслия. В Интернете выложена книга Корнея Чуковского «Живой, как жизнь» (http://vivovoco.rsl.ru), отдельная глава которой посвящена технике и практике оскопления литературы с помощью школьных учебников и сочинений; можете также посмотреть, как эту тему убийственно остроумно развивает представитель более позднего поколения директор Института лингвистики РГГУ Максим Кронгауз (http://magazines. russ.ru/nz/).
Советский новояз состоял из чудовищной смеси гремучей идеологической лозунговости и суконного канцелярита, владеть которым учили в школе (по популярности в Интернете тема канцелярита почти не уступает «советскому новоязу»: 13 800 ссылок в Google). В этом была практическая необходимость, ибо справки, заявления, анкеты, формализованные автобиографии составляли основной вид рукописного творчества советского человека. Этими следами эпохи забиты архивы, и это действительно лицо эпохи. Сам язык унаследован от дореволюционного чиновного слога — над ним и в позапрошлом веке смеялись.

Все же чиновный язык не составлял лица дореволюционной эпохи, поскольку сосуществовал рядом с литературным, с фольклором и регионализмами, с жаргонами и профессиональными языками. Но самое главное — никому не приходило в голову принимать чиновный канцелярит за язык культуры.
Неграмотные, потом долгое время полуграмотные бывшие крестьяне были уверены, что язык пропаганды, изливавшийся на них сплошным потоком из радиоприемников и со страниц газет, и уважаемый ими письменный язык документов и есть язык культуры. Все, кто хотел продвинуться в этой новой городской жизни или хотя бы уничтожить следы своего деревенского происхождения — как следы принадлежности к низшей касте, терпеливо осваивали этот язык. Так терпеливо и настойчиво, что он прирастал к ним. Их детей обучали этому же языку как главному: языку политической лояльности, к демонстрации которой сводилась практически вся сфера публичного словоговорения.
Что спасло советский народ от окончательной деградации в духе Оруэлла? Многие филологи и лингвисты считают, что спасением стала «диглоссия» — многоязычие внутри одного языка. Язык идеологии и пропаганды так и не смог вытеснить все остальное и остаться единственным на практике, и нашей, и Третьего рейха. Люди продолжали работать, есть, ездить в транспорте, влюбляться, заводить семьи, и все это были реальности, для которых язык газетных передовиц оказывался недостаточно пригодным. И хотя взрослый дядя в книге Чуковского заботливо спрашивал у плачущей девочки: «Ты по какому вопросу плачешь?», хотя героиня «Пяти вечеров» Володина признается в любви словами отчета о трудовых успехах, рядом жили другие языки: жаргон улиц, повседневное просторечие, экспрессивный мат, профессиональные языки.
Была еще достаточно тонкая прослойка «гнилых интеллигентов», передававших свою интеллигентность вместе с языком по наследству, через голову школы, комсомольских и партийных собраний. В этих семьях читали книги и усваивали их раньше, чем до них добиралось школьное сочинение, и разговаривали на нормальном русском литературном языке. Какая-то доля этих людей попадала и в школы; карьеры там они сделать не могли, зато имели учеников, которых успевали научить разговаривать по- человечески и даже немного думать. А поскольку большевики собирались стать единственными наследниками всей мировой культуры, в театрах шли спектакли по классическим, не тронутым цензурой текстам, да и в кино после смерти вождя народов можно было увидеть не только «Кубанских казаков».
Может быть, большевикам просто не хватило последовательности своего оруэлловского близнеца, чтобы отказаться от культурного наследия прошлых веков, запретить всякое упоминание о нем и сажать за нарушение запрета, как это происходит в антиутопии Рея Бредбери «450 градусов по Фаренгейту». И все-таки следует признать, что советская власть добилась сокрушительных успехов: чуть-чуть похолодает в воздухе, только-только выйдет из моды демократическая лексика, как с экранов телевизоров, особенно в выступлениях политиков любого ранга, потоком извергаются советизмы, советские обороты речи, конструкции советского языка. Об этом в Интернете вы найдете массу ядовитых замечаний — как тех, кто обличает нынешнюю элиту в измене демократическим идеалам, так и тех, кто обличает их в вынужденном возврате к могучему советскому языку, оттого что ничего другого они выдумать не в состоянии.
Можно действительно заметить возврат некоторых чисто советских оборотов речи: например, торжественно безличные конструкции, когда действующее лицо неизвестно — и, значит, ответственности ни за что не несет, — срабатывает круговая порука типа «ЦК КПСС постановил.., на заседании обсуждалось» и т.д. Начало 90-х в газетах ознаменовалось уходом безличных конструкций и взамен даже излишним нанизыванием имен и должностей как источников информации, так и лиц, непосредственно принимавших решения. С тех пор власть опять стала сугубо непрозрачна, вступила в права круговая порука, и опять официальные формулировки приобрели торжественно коллективную безличность. В Интернете найдете другие многочисленные примеры советизмов в речи политиков и в политической публицистике и их анализ, (Google предлагает 445 ссылок на запрос «Советизмы в языке современных российских политиков».)

Интересен сам механизм выработки новояза. Не было Единого центра, в котором бы вырабатывались газетные штампы, рекомендовались образцы статей на политические и хозяйственные темы и т.д. (некоторые образцы канцелярита как раз вывешивались в учреждениях, где нужно что- нибудь чисто бюрократическое написать или заполнить — очень удобно и не надо учить этому в школе). Тем не менее режим, несомненно, формировал этот особый стиль через своих проводников: главных редакторов и заведующих отделами, которые подбирались очень тщательно и должны были постоянно подтверждать свою политическую благонадежность (но никак не особую грамотность или художественность статей) перед секретарями партийных органов по идеологии, перед бюро райкомов и обкомов, а те — перед вышестоящим начальством; авторы текстов для газет, радио, позже и телевидения, если хотели получать заказы, тоже должны были постоянно подтверждать свою преданность непосредственному начальству, поскольку независимых от власти источников дохода, как известно, с 30-х годов не было уже ни у кого. Читали про мышку, которой кладут в конце лабиринта лакомство, а каждый неправильный шаг наказывается ударом тока? Человек не глупее мышки.
Почему преданность режиму непременно обретала столь чудовищные языковые формы? И потому, что социальное происхождение ценилось выше красот стиля, и потому, что штампы помогали писать быстро и много, и потому, что с ними спокойнее: проверено, мин нет. Между прочим, публицистика фашистской Германии тоже оскорбляла вкус и языковое чутье немецких интеллигентов, хотя там не было толп малограмотных вчерашних крестьян. Как ни странно, язык тоталитаризма везде одинаково лжив, напыщен и безвкусен (тема «язык тоталитаризма» бьет все предыдущие рекорды: 250 000 предложений в Google. Значит, лгут все, кто готов с почестями похоронить наше прошлое — о нем помнит и размышляет новое поколение живущих в Интернете). Но это уже далеко не языковая проблема.
Хотя как сказать: почему-то многие, кто после революции или переворота обещал своему народу скорое светлое будущее, начинали с реформирования языка — так поступали не только большевики, но и французы времен якобинства и гильотины.
Идет ли сегодня целенаправленная работа по изменению русского языка, а вместе с тем и образа мыслей, и образа жизни? Думаю, да, идет. Целенаправленная, хотя, как обычно, цель — не само по себе изменение языка, но использование этих изменений как инструмента для достижения иных целей. Нет, это не заговор укрывшегося в Лондоне олигарха и не заговор озабоченного сохранением всеобщей лояльности правительства. Это работа постоянно растущей армии пока не слишком умелых и даже не слишком грамотных служителей рекламы.
О том, как реклама формирует потребности, а через них влияет на образ жизни и систему ценностей потенциальных потребителей, каковыми являемся мы все поголовно, написаны тома литературы, научной, публицистической и художественной (последней — опять-таки в жанре если не антиутопий, то сатиры). Большевикам нужна была лояльность; рекламщикам — намного меньше: всего лишь продвинуть товар на рынок. Результатов последние достигают ошеломительных, там, где и не собирались: в изменении языковой картины мира.

Известный социолог, культуролог и переводчик со многих европейских языков Борис Дубин заметил, как удивило советских людей первое появление настоящей рекламы западного стиля: они не подозревали, что их можно считать самостоятельными субъектами выбора, а не только объектами руководящего воздействия. («Летайте самолетами Аэрофлота!» — так и хочется добавить: не то...) Им не приказывали, их уговаривали, поглаживали, подсовывали с заискивающей улыбкой. Опять же реклама появляется там, где есть разнообразие товаров и услуг; помните ли растерянного подростка перед витриной ларька, изукрашенного фольгой разных оттенков, с множеством маленьких пакетиков и коробочек немыслимой красоты в стиле китч?
Попривыкли. Ругаются: реклама прохода не дает, ни одного сериала спокойно не посмотришь, из окна автобусов в глаза кидается, засоряет почтовые ящики. А детям нравится реклама: красочные клипы, короткий хлесткий текст — раньше с ними разучивали басни Крылова, теперь они по собственному почину с любого места и до бесконечности готовы повторять рекламные тексты — заодно демонстрируя поразительную осведомленность в самых современных и модных предложениях торговли.
Исподволь реклама сказывается и на языковой картине взрослого мира, а с этим — и в способе мыслить взрослых, и в их способе жить. Сотрудница Института русского языка РАН И.Левонтина, возражая ревнителям чистоты русского языка от иностранщины, которые хватаются за валидол при слове «шопинг», показывает: это вовсе не «сходить в магазин за покупками», такой перевод был бы просто неверен. Она пересказывает статью из рекламного итальянского журнала, где разница продемонстрирована очень наглядно: «Перед началом сезона... мать проводила ревизию детской одежды и обуви, отец подсчитывал финансы, а потом составлялся список, кому из детей нужно купить новые ботинки, а кому позарез нужна куртка, а ботинки пока сойдут и старые. Потом следовал поход в магазин, где дети терпеливо примеряли указанные матерью вещи и, с трудом дождавшись окончания экзекуции, спешили вернуться к играм и другим важным делам. Никому не приходило в голову рассматривать мероприятие как удовольствие. Разумеется, все это не было шопингом. Иное дело, когда мы бродим по магазинам, как по музею, и покупаем вещи, которые заранее не планировали покупать, а то и такие, о существовании которых не имели ни малейшего представления, пока не увидели их в магазине. Шопинг — это времяпрепровождение, праздник, игра, способ снятия стресса, способ познания мира, своего рода спорт (последнее касается особенно шопинга в период распродаж). Шопинг — это терапия и это мания». Кстати, в приверженности шопингу уже давно признаются на страницах глянцевых изданий звезды кино и спорта, исполняющие обязанности всенародных авторитетов — это значит, не только слово, но и занятие скоро станет всенародным. «Английское слово shopping попало во многие языки, — пишет И.Левонтина, — причем мне кажется, что в языках-реципиентах оно обрело даже больший концептуальный накал, чем в английском».
И.Левонтина показывает, как рекламщики систематически повышают свою языковую квалификацию, предлагая нам уже не прямые кальки чужой жизни, а «приманки», вписывающиеся в наши представления о мире — и на этом клеточном уровне производя серьезную подмену понятий. «Лояльный» покупатель, владелец дисконтной карты магазина на Западе, у нас никак не может остаться «лояльным»: чему-кому? Начальству магазина? Лояльность начальству не слишком у нас в почете. Лояльность высоким ценам и низкому качеству товаров? Спасибо, не надо. Чтобы уговорить нас обзавестись все-таки дисконтной картой и этим оказаться привязанной к определенной сети магазинов, нашего человека называют. «любимым». «Карта любимого клиента». Надо признать, выстрел в яблочко ( http://www. dialog-21.ru/dialog2007).
Максим Кронгауз, автор прекрасной и очень нашумевшей книги «Русский язык на грани нервного срыва» и многих статей в Интернете, помимо всего прочего, приводит пример волевого политического вмешательства в родной язык (не наш), причем, что самое интересное, успешного вмешательства. Такова огромная сила стремления западного мира к политкорректности — то есть, по-простому, стремления никого не обидеть, особенно того, кто считает себя обиженным и имеет на это некоторые основания. Так в английском языке из нейтрального соскользнуло в резко сниженный и предосудительный пласт речи слово «негр», на его месте прочно обосновалось неуклюжее «афроамериканец». Еще показательнее перемены, происходящие в некоторых европейских языках под влиянием феминизма.
Недавно наш журнал обращался к этой теме: общепринятые застольные речи, приметы, профессиональные привычки и не вполне осознанные представления по-прежнему формируют уверенность наших соотечественников в явных преимуществах мужчины, хотя сознательно вряд ли многие из носителей этих глубоко усвоенных убеждений взялись бы их сформулировать. Именно на этом «клеточном» уровне языка и принялись работать умные феминистки, требуя равенства между полами в повседневной лексике и грамматике. Появилась даже специальная область исследований — гендерная лингвистика, которая отыскивает подобного рода несправедливости в родном языке.
И вот вам результат: английский, немецкий и некоторые другие языки принимают, судя по всему, системные изменения в сторону политкорректности. Гендерная лингвистика настаивает на установлении «полной симметрии в назывании мужчин и женщин и вообще употреблении слов, семантически связанных с идеей пола». И действительно: во всех языках, где есть категория рода, мужской род явно «главный», а женский — «вспомогательный». Слова «человек» и «мужчина» во многих языках совпадают, тогда как женщина — особое слово, как бы уже и не вполне человек или человек особый, специальный. Когда говорят о совокупности людей разного пола, употребляют мужской род (студенты, актеры и т.д.). Для многих профессий существует только одно слово, причем для профессий престижных оно всегда мужского рода, а для всякого рода обслуги — в основном женского (министр, президент, космонавт — но няня, прачка).
Из европейских языков практически исчезли специальные обращения к незамужним женщинам (miss, mademoiselle, Fraulein и т. д.): ведь холостых мужчин никак не выделяют, а это явно несправедливо, и вообще вмешательство в личную жизнь. Теперь так дозволено обращаться только к девочкам.
В названиях профессий на английском языке теперь man чередуется с woman (когда речь идет о женщине) или с нейтральным person. Само слово woman иногда искажается так, чтобы оно не было производным от названия мужчины man. В немецком языке какое-то время рекомендовалось, называя разнополую группу, использовать слова разных родов, например, Studenten und Studentinnen (студенты и студентки, вместо простого студенты). Сейчас появился новый графический способ устранения несправедливости: например, в качестве нейтрального местоимения третьего лица единственного числа пишут s/he, то есть и he (он), и she (она) одновременно. Некоторые наиболее экстремистски настроенные преобразовательницы уродуют даже собственные фамилии, заменяя в фамилии Кауфман «man» на «person» (http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999).
Смейтесь, смейтесь! Когда внуки нынешних революционерок будут учиться говорить, они войдут в иной мир. Возможно, тот мир будет устроен лучше — по крайней мере, для женщин.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК