10. В глубине лесов
Мертвая степь. — Современная передвижная мастерская. — Живая вода. — Болтливая дама не знает дороги. — В ухабистой долине. — Ночная прогулка. — Кочующее государственное хозяйство. — Путь к озеру Хубсугул. — Лесной народ. — Похищение невесты. — Как надо преподносить подарки. — Сиди прилично!
Вскоре достигаем берега Убсу-Нура, одного из крупнейших озер Монголии. Направо — длинная цепь высоких гор; ее вершины Цаган-Хайрхан-Ула и Хан-Хухэй-Ула закрывают горизонт. Налево — отражение тех же гор в черной воде огромного озера. Обширные луга между горами и озером поросли какой-то пахучей травой. От сильного дурманящего аромата разболелась голова. С воды поднимается пестрая птичья стая и с криком уносится вдаль. Воздух неподвижен; духота и зной усиливают пьянящий аромат. Вылезаем из грузовика, чтобы немного размяться и определить, какое же растение испускает этот одуряющий запах. Весь луг покрыт сероватой травой, похожей на полынь. Зверей здесь, видимо, нет. Но вот поднимается ветер, и на озере начинается волнение. Убсу-Нур — самое крупное соленое озеро в Монголии и после Хубсугула у него самая большая акватория.
Некоторое время следуем вдоль берега, а затем сворачиваем в сторону. Более часа едем, не видя воды, как вдруг далеко на горизонте среди степи возникает белый парус. Его мерцания напоминают нам призрачные озера в пустыне, и мы понимаем, что это шутка раскаленного воздуха. Степной мираж на этот раз дразнит нас двумя белыми юртами. Мы уже начинаем опасаться, что заблудились, как вдруг около шести часов вечера показываются строения государственного хозяйства. Оно расположено на речке Барун-Туру и носит то же название. Нас уже ждут. Быстро снимаем с грузовика вещи, немного освежаемся и идем знакомиться с поселком.
Госхоз создан в 1943 году. В центре стоят красивые здания. Это мастерские, хозяйственные строения, конторы и жилые дома. Я уже успел привыкнуть к тому, что степной народ живет в юртах, и дома меня поражают. Мы попали в Монголию будущего. Строения окружены деревьями и кустарником, внизу журчит Барун-Туру.
Нас везут осматривать хозяйство. Среди довольно большого поселка, состоящего на этот раз из юрт, встречаем мужчину в белом халате. Он показывает нам большой электрический сепаратор, работающий в центральной юрте. Рядом, уже ручным способом, прессуют масло и перерабатывают отходы. Юрты окружены низким каменным забором. Айрик, то есть кумыс, приготовляют в другой группе юрт. Производство этих продуктов ведется в крупных масштабах, не только для себя, но и для снабжения других аймаков.
С гордостью показывают нам работники госхоза свои телятники, перед которыми на привязи резвятся их обитатели. В коровнике нас приветствует веселая группа доярок в белых халатах. Старшая из них рассказывает о последних достижениях. Отсюда идем в мастерскую, где собирают и ремонтируют сельскохозяйственные машины. Под конец нам еще показывают мастерскую-передвижку. В большом закрытом грузовике установлен токарный станок и сложено много всевозможных инструментов. Передвижная мастерская спешит на выручку трактористам и комбайнерам в тех случаях, если у них что-нибудь не ладится во время работы в степи.
При осмотре этого вполне современного хозяйства мне бросаются в глаза телеги на цельных деревянных колесах. Спрашиваю у одного из молодых руководителей госхоза, почему не отправят в музей эти телеги, считавшиеся устаревшими еще во времена Чингис-хана. К удивлению своему, узнаю, что телеги новые, сделанные совсем недавно.
— Поверьте мне, — уверяет мой новый друг, — для нашей каменистой почвы такие колеса подходят как нельзя лучше.
Вот так и живут здесь рядышком старинная телега и современный комбайн. За зиму в госхозе построили несколько новых зданий и подвели их под крышу: теперь плотники заканчивают потолочные перекрытия. Здесь, в Северной Монголии, экономить дерево не приходится.
Только вечером заканчиваем осмотр хозяйства. Наши комнаты обставлены гнутой алюминиевой мебелью, в углу большой радиоприемник, на кроватях мягкие шерстяные одеяла. Просим чаю и говорим, что хотели бы сразу после чаепития лечь. Вскоре нам сообщают, что чай готов, и ведут в большой зал. Длинный стол ломится от всевозможных яств. За столом ожидают нас все руководители госхоза и некоторые другие работники. Мне очень хочется пить, но чаю на столе нет. Тянусь к большому кувшину с водой и спрашиваю: не аршан ли это? (По-монгольски аршан — минеральная вода.) Мне отвечают утвердительно. Наливаю полный стакан и делаю большой глоток. Окружающие смотрят на меня с веселым любопытством. Лицо мое, очевидно, сморщилось в страшную гримасу, потому что все разражаются звонким смехом. В кувшине оказалась прозрачная молочная водка — ужасный напиток!
— Какие же вы обманщики! — протестую я, смеясь в свою очередь.
— И вовсе мы не обманщики, — весело откликаются хозяева. — Для нас это аршан!
Первоначально слово «аршан» означало «нектар», «живая вода», «напиток вечной молодости». У французов ведь водка тоже называется «eau-de-vie», то есть «живая вода». Слово «аршан» — индийского происхождения и первоначально звучало как «рашиан». Мои сотрапезники назвали водку нектаром, и в этом не было никакого обмана, потому что они ее действительно любят.
Приносят ужин, во время которого нас засыпают градом вопросов. Как обстоит дело с шерстяной промышленностью в Венгрии? Как изменилось положение трудящихся женщин по сравнению с прошлым? Как подготавливают в Венгрии врачей? Какие успехи сделала фармацевтическая промышленность Венгрии? Вопросы так и сыплются. К счастью, я люблю читать газеты и легко запоминаю интересные сообщения, но все-таки дать исчерпывающие ответы на все заданные вопросы мы не в состоянии. Понятно, почему наши собеседники интересуются именно этими вопросами. Ведь с нами за столом сидят бригадир овцеводческой бригады, секретарь союза женщин и врач госхоза. Меня даже спрашивают, как налажена в Венгрии скорая медицинская помощь с использованием самолетов. В то время у нас вообще не было санитарных самолетов, а в Монголии ими пользовались уже несколько лет. Узнав, что в Венгрии нет самолетов скорой медицинской помощи, наши хозяева с гордостью рассказывают о монгольской системе здравоохранения. Объясняю им, что вся Венгрия не больше одного монгольского аймака, а больниц в ней так много, что для перевозки вполне хватает машин скорой медицинской помощи. Мои собеседники поражены; им кажется невероятным, что на земле существуют такие маленькие страны. Как может жить на таком маленьком пространстве столько народу? Кто-то радушно заявляет, что если у нас дома так тесно, то они с радостью примут к себе четыре-пять миллионов венгров. Места в их аймаке достаточно, и они с готовностью помогут братскому народу. Благодарю за любезное приглашение.
Беседа за столом оживленная и веселая. Наши хозяева рассказывают о своих достижениях: о том, как им удалось снизить ужасающий падеж скота, об опытах по улучшению пород овец для получения высококачественной шерсти. Трактористы рассказывают о расширении посевных площадей, доярки, перебивая, вставляют свое слово об удое, а все вместе они кажутся большой семьей, с гордостью отчитывающейся в своих славных делах.
Время близится к полуночи, когда мы поднимаем стаканы для прощального тоста. Веселая компания провожает нас до порога комнат.
На рассвете опять трогаемся в путь, но сначала отдаем врачу госхоза большую часть лекарств из нашей аптечки, надеемся, что они нам больше не понадобятся.
Отъезжаем совсем недалеко от госхоза, и тут выясняется, что взяли неправильное направление. Долина, в которую мы попали, оказалась тупиком. Какой-то всадник спускается со склона горы, но он стремительно промчался мимо нас. Тут мы замечаем, что на противоположном склоне мечется привязанная лошадь, напуганная нашей машиной. Всадник спешит к ней, лошадь становится на дыбы, трясет густой, никогда не стриженной гривой, прыгает. Чудесная картина, но нам не до того. С нетерпением ждем возвращения всадника. Он советует охать прямиком через горы; мы так и сделали, и если следовали не напрямик — прямых путей в горах вообще не бывает, — то, во всяком случае, по крутому подъему вверх.
Перед нами расстилается совсем иной ландшафт. Пересекаем покрытые снегом пастбища, карабкаемся по кручам. Кажется, что шофер задумал взобраться на самую вершину, но вдруг машина бежит вниз и очень быстро оказывается в долине горного потока. Под двумя огромными елями стоит юрта, из которой к нам выходит словоохотливая женщина и начинает болтать без умолку. Она сообщает, сколько времени живет здесь их семья, куда отлучился муж, где находятся стада, объясняет, как ехать до ближайшей переправы; одного она не может нам сказать: какая дорога ведет в Улясутай. Женщина никогда не слышала этого названия.
Позже я отметил, что монгольские женщины знают обычно лишь ближайшие окрестности, правда, и они занимают огромные территории. Многие монголки даже в сомонном центре никогда не бывали. Да это и вполне понятно, ведь все «административные» дела возлагаются на мужчину.
Наша машина опять взбирается на гору. Нигде ни души. Через некоторое время встречаем босую старуху, пасущую овец. Она посылает нас к сосне под скалой, где живет старый человек; уж он-то должен знать дорогу. Медленно едем по лесу, но не находим ни дороги, ни старика. Исчезают даже следы автомобильных шин на дороге; перед нами вьется пешеходная тропа. Не имеем ни малейшего представления, куда нам ехать. Останавливаем машину и посылаем вперед разведчиков, чтобы выяснить, по какому же ответвлению долины можно проехать. Разведчики скоро возвращаются и сообщают, что оба ответвления сужаются и ехать по ним одинаково опасно. Делаем выбор наугад. Машина пробивается сквозь лесную чащу. Вдруг прямо из-под колес выскакивает семья козуль и бросается в сторону. Дикая красота окружающей природы не отвлекает нас от опасений, что мы опять попали в тупик. Машина встала и не может тронуться с места.
Вернуться назад? Но нет никакой уверенности, что удастся найти дорогу, которая привела нас сюда, а кроме того, это означает потерю двух дней. Пока мы обсуждаем свое положение, высоко на горном хребте показывается всадник. Сигналим клаксоном, и он спускается к нам. Как будто он тоже не слишком уверен, куда надо держать путь, но советует держаться второй долины. С большим трудом шофер разворачивает громоздкий грузовик на узкой дороге. Едем по другой долине. Дорога такая тряская, что приходится слезть, чтобы не вывалиться из машины. Идем впереди, ищем дорогу; машина медленно движется за нами. Склоны поросли великолепными соснами, сбегающими вниз к самой кромке долины, по которой течет небольшая речонка с заболоченными берегами. Местами река срывается с порогов, образуя водопады и размывая последние остатки дороги. Мотор грузовика за нашей спиной замолкает. Оборачиваемся и видим грустную картину: машина до осей погрузилась в трясину. Только этого нам еще недоставало!
Скатываем со склона горы камни, собираем гальку, чтобы создать твердую опору для колес грузовика. Только через час удается при помощи домкрата вытащить машину из трясины. Она проходит не более двух метров и опять увязает в болоте. Начинаем все сначала. Сумья срубил две сосенки, и с их помощью нам удается снова вытащить грузовик, потеряв еще около часу времени. Наученные горьким опытом, строим из камней переправу и благополучно перебираемся на другой берег. Долина становится все уже, а река так размыла дорогу, что она стала совсем непроезжей. Машину так трясет, что опрокидывается сосуд с питьевой водой и она вытекает, подмочив все наши вещи. Начинается крутой подъем, но наш грузовик легко его преодолевает, и скоро мы оказываемся на склоне, где и нападаем на следы автомобильных шин. Придерживаемся этих следов. Путь лежит через плоскогорье. Если «непроезжая» долина поразила нас своей роскошной растительностью, сочными травами, цветущими кустами, исполинскими деревьями, то расстилающаяся перед нами картина наводит уныние своей угрюмой пустынностью. Лишь кое-где на каменистой почве растут одинокие сосны. Вдруг путь преграждает вздувшийся горный поток. Он проявляет излишнее гостеприимство, задерживает грузовик и не дает нам переправиться на другой берег. Застреваем надолго. Понадобилось более полутора часов, чтобы освободить многострадальную машину. Мы уж не надеемся когда-нибудь отсюда выбраться.
Подул ледяной ветер, смеркается. За двенадцать часов мы проехали не более 20 километров, а должны были покрыть 460. На угрюмом пустынном плоскогорье никаких следов жизни. Одно счастье, что грунт стал лучше и машина едет гораздо быстрее. Около восьми часов вечера, буквально в последнюю минуту, натыкаемся на дорогу: уже совсем стемнело и вряд ли удастся обнаружить следы человека. Едем наугад по дороге.
Вот вынырнули руины древнего ламаистского монастыря — деревянные строения с китайскими крышами. Сомнений нет — мы сбились с пути. После короткого обмена мнениями решаем ехать в ближайший сомонный центр и просить там пристанища.
Становится совсем темно и так холодно, что даже доха не спасает: зуб на зуб не попадает.
Снова трясемся по ухабам, теряя остаток сил. К счастью, выплывает луна и при ее свете удается разглядеть телеграфные провода. Пусть они и не приведут нас в сомонный центр, куда нам уже давно следовало прибыть, все же появилась надежда найти хоть какое-нибудь человеческое жилье. Раздается громкий лай, значит, где-то вблизи живут люди. Но в юрте остались одни дети, и они не имеют никакого представления, куда нам держать путь. Телеграфный провод кончился, по какой-то причине его не провели дальше.
Машина стоит. Дрожим от пронизывающего ледяного ветра и только в лунном свете находим какое-то успокоение. Если бы у нас была с собой юрта, в которой можно было бы проспать до утра! Вылезаем из грузовика, чтобы поразмять одеревеневшие члены, и все-таки решаем ехать дальше.
Больше часу блуждаем вслепую, выбираем только дорогу поудобнее. Даже луна покинула нас, спрятавшись за тучами, когда на горизонте наконец показываются черные густые тени, отбрасываемые какими-то строениями. Но едва мы успеваем их заметить, как грузовик снова проваливается в трясину и на этот раз увязает окончательно. Собираем самые необходимые вещи, мобилизуем остатки сил и отправляемся пешком. Наступил рассвет 12 июня, и, как мы узнали позже, стоял 13-градусный мороз.
Хождение по мукам продолжается. В темноте натыкаемся на кучи навоза на окраине деревни, и нас атакуют все собаки, какие только водятся в окрестностях. Они-то нас и спасают. На их неугомонный лай выходят люди и ведут нас в здание школы.
Местные жители говорят, что мы заехали очень далеко от цели нашего путешествия. В одном из классов топится печка, и здесь, к нашему великому изумлению, мы находим своего старого знакомого Джагварала. Ни он, ни мы, находясь в Улангоме, не рассчитывали, что судьба снова так скоро сведет нас. Джагварал приехал сюда для предвыборной пропаганды и только собирался лечь, как вдруг услышал поднятую собаками тревогу. Мы очень рады встрече. Несколько человек под предводительством Вандуя на двух маленьких газиках отправляются к нашему грузовику, чтобы взять вещи. Около трех часов утра они возвращаются, и мы можем наконец укладываться.
Утро встречает нас ярким сиянием солнца, хотя в нашем классе с окнами на север очень холодно. Выхожу из школы. При солнышке все кажется приветливее. Ночью мы сделали большой крюк на север; в сомонном центре бревенчатые дома, характерные для северных лесистых областей Монголии. Небольшая толпа собралась у объявления на двери какого-то здания. Подхожу. Это избирательный плакат с фотографией Джагварала и его биографией. Узнаю, что родился он в Южной Монголии и был учителем. Недавно Академия наук СССР присудила ему ученую степень доктора экономических наук. За завтраком мы разговорились. Интересуюсь, как проходят здесь выборы. Великий народный хурал — парламент Монгольской Народной Республики, — согласно измененной в 1949 году Конституции, избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидатов в депутаты выдвигает блок Монгольской народно-революционной партии и беспартийных.
Голосований проходит по административным подразделениям. Местные органы власти, городские, аймачные, сомонные и баговые хуралы избираются на основе тех же принципов. Несколько позже я видел в степи разукрашенные юрты (в Монголии голосование тоже происходит в юртах), к которым на конях подъезжали монголы, чтобы воспользоваться избирательным правом, предоставленным им законом.
Рано утром грузовик наконец вытащили из трясины. Джагварал вместе с заместителем председателя аймачного управления проделал с нами часть пути, до того места, где наши дороги должны разойтись в разные стороны. Прощаясь с нами, попутчики подробно объясняют, как ехать, чтобы вернуться на потерянную дорогу.
Сумья так устал от ночных блужданий и вытаскивания грузовика из топи, что передал управление машиной Вандую, но через четверть часа тот возвращает ему руль, у него самого слипаются глаза.
Мимо проносится табун. Коней следовало бы запечатлеть на кинопленку; они великолепны в своем стремительном, как ветер, беге, стройные, грациозные, с развевающимися гривами. Благородные кони несутся с такой быстротой, что кажется, будто они не касаются земли подковами, а пролетают над ней с вытянутыми вперед головами. Во главе табуна мчатся жеребцы, кобылицы плотной массой несутся за ними. Вся степь оглашается топотом копыт. Табун закрывает нам горизонт, но ветер относит поднятую пыль в сторону, и пыльное облако не мешает нам наслаждаться чудесным зрелищем.
В маленьком аиле собаки встречают нас громким лаем. Привязанные у юрты лошади, испугавшись грузовика, взвиваются на дыбы, рвут коновязь и уносятся в степь. Собаки пускаются вслед за ними и пригоняют их обратно. Псы здесь страшные, и мы наблюдаем за происходящим не сходя с машины. Скоро из ближайшего аила прибегают любопытные ребятишки. Им хочется узнать, откуда приехала чужая машина. Собаки, убедившись в нашей недосягаемости, набрасываются на новых пришельцев. Но ребята, очевидно, приготовились к такой встрече и явились не одни, а в сопровождении своих собак. Схватка между собачьими стаями коротка и ожесточенна. Но владельцы собак быстро договариваются за спиной своих воинов, и на сцепившихся собак обрушиваются камни и комья земли. Псы хмуро ретируются в тень юрт, удивляясь человеческой неблагодарности. Причина такого быстрого завершения военных действий кроется в том, что ребят обоих аилов чужой грузовик интересует куда больше, чем собачья грызня. Вот почему они решают заключить перемирие, чтобы получше рассмотреть чужеземцев, так редко к ним забредающих.
Жители аила дают нам сбивчивые указания относительно дальнейшего пути. Покупаем в лавочке кое-какой еды и захватываем с собой заболевшего мальчугана с отцом и местным фельдшером, чтобы доставить их в «ближайшую» больницу. К счастью, наши новые попутчики прекрасно разбираются в разбегающихся следах автомобильных шин. Путь наш лежит мимо Тэлмин-Нура, маленького озера неопределенного цвета. Кара утверждает, что озеро голубое, мне оно кажется скорее зеленым. Кто из нас прав — трудно решить; летящие по небу облака и волнение на озере поминутно меняют оттенки воды.
Чувствуем безмерную усталость. Кару лихорадит, Кёхалми тоже плохо себя чувствует. Останавливаемся у станционного строения, где отдыхают гуртовщики. Сходим с грузовика, но у нас не хватает сил даже для того, чтобы войти в гостиницу. В семь часов едем дальше, нам предстоит сделать еще 260 километров.
Наконец-то! Вот она, главная дорога, которая приведет нас в центр Дзабханского аймака — Джабхалант, или, как его иначе называют, Улясутай. Управление машиной в темноте требует от водителя напряженного внимания, непонятно, как Сумья может еще сидеть за рулем. Дорога такая плохая, что наши испытания превосходят все, что перенесено до сих пор. Продвигаемся по болоту, местами по бревнам, где они еще не погрязли в трясине. Кое-где сохранились насыпи, но чаще ориентиром служит все тот же след автомобильных колес. Фары то и дело выхватывают из темноты груды грязи; как видно, совсем недавно здесь откапывали машину, завязшую в трясине. Эти разрытые могилы автомашин, ледяной воздух и полная темнота не улучшают настроения.
Но вот натыкаемся на придорожную гостиницу. Горячий чай согревает и придает бодрости. Снаружи слышатся звуки клаксона, и через минуту входит незнакомец и обменивается парой слов с нашими спутниками; до сознания доходит потрясающая новость: за нами прислана легковая машина. Как раз вовремя. Вот как это случилось: Вандуй из Ваян-Улэгэя, а может быть еще из Кобдо, снесся по телефону с Улан-Батором и попросил прислать легковую машину. Джип советского производства ждал нас в Улясутае, и Джагварал позвонил туда, чтобы его выслали нам навстречу.
Радость наша оказалась преждевременной. Металлические сиденья расположены параллельно колесам, и ветер насквозь продувает низенькую открытую машину. Виднеются неясные очертания застрявших грузовиков. Джип продвигается со скоростью не более 20 километров в час. Топи чередуются с каменистым грунтом, нас бросает то вверх, то вниз. Через четверть часа мы уже с сожалением вспоминаем о «комфортабельном» грузовике. Машина несется под нависшими скалами, по краю пропасти, потом пересекает каменистое ложе горного потока. Время тянется ужасно медленно, и бесконечными кажутся километры, Кёхалми, сидящая рядом с шофером, время от времени сообщает: прошли еще 70 или еще 65 километров. Попутчики затягивают бесконечную монгольскую песню. После двадцатого повторения присоединяемся к ним, ничего другого нам не остается.
Дома! Машина тормозит, но не тут-то было! Ночь подшутила над нами, мы приняли за жилье развалины какого-то монастыря. Едем дальше. Подъезжаем к юртам; на щите объявление: «Дорожное строительство, путь закрыт!» Приходится оставить даже ту скверную дорогу, по которой мы передвигались до сих пор. Едем напрямик через болото. Вдруг вспоминаю о мучениях Свена Гедина в пустыне. Тогда не было машин, но, хотя Свен продвигался медленнее нас, не думаю, что ему было хуже.
Временами, чтобы хоть как-то продвигаться вперед, приходилось включать привод обеих осей. Подумываю о том, не лучше ли нам переждать где-нибудь до утра. При дневном свете ехать все-таки легче. Давно уж проехали 80 километров, а Улясутая нет как нет.
Песня умолкает, слышен только шум мотора, прерываемый скрипом камней или чавканьем грязи.
Только в половине второго ночи приезжаем в спящий городок. Нужно еще найти гостиницу, а потом директора. Наконец он приходит и впускает нас.
В комнате ждет почта, пересланная сюда из столицы. Уже месяц, как мы не получали никаких известий из дому. Моих сил хватает лишь на то, чтобы сложить письма в хронологическом порядке и открыть первое из них; прочитать его я уже не смог: меня сморил сон.
Улясутай — старинный город; при маньчжурах он был одним из административных центров. Вандуй жил здесь в детстве и рассказал нам о дореволюционных временах; кое-что он помнил сам, но больше знал по рассказам родителей. В те времена тут проживало много китайцев, самым большим праздником у них считался день Гесера. Китайцы связывают с именем Гесера свержение монгольской династии Юань. В те далекие времена все китайские отряды, во главе которых стояли монгольские военачальники, взбунтовались, убили или прогнали чужеземцев. В дальнейшем маньчжурская династия, пришедшая к власти в XVII веке и поддерживавшая традиционный культ Гесера, имела, конечно, вполне обоснованные причины, чтобы не подчеркивать своей роли в соответствующих событиях китайской истории. Не случайно этот праздник особо чтили китайцы, жившие в Монголии. На самом деле Гесер — легендарный герой «Гесериады», одной из самых великолепных эпических поэм Центральной Азии, происхождение которой вызывает много споров. Различные варианты этой эпопеи известны в северных районах Индии, заселенных тибетцами, в самом Тибете и в Монголии[67].
В первой половине дня мы побывали в местном музее и библиотеке. Пожилой монгол, видимо бывший лама, сообщил, что ему известна «Красная летопись», написанная Лоцава-Ртамгрином. Он, очевидно, ошибался, может быть, спутал эту хронику с «Золотой летописью» Рцаба-Ртамгрина, который умер в 30-х годах текущего столетия и был, пожалуй, последним представителем этого историко-религиозного жанра.
Решили провести несколько дней в городке и его окрестностях. Все виденные нами раньше города, включая Кобдо, были новыми или по меньшей мере застроенными современными домами. Узкие улочки Улясутая и саманные домики в китайском стиле созданы мастерами далекого прошлого. Городок зажат между горой, у подножия которой он расположился, и рекой Улясутай; расти ему некуда. Мы переходим по большому мосту на другую сторону реки, чтобы осмотреть развалины старинной маньчжурской крепости. У моста висит табличка с надписью «Стоянка» и изображением лошадиной головы. Здесь должны оставлять своих коней всадники, приехавшие в город. Китайская надпись под нависшей скалой сообщает: «Здесь синие ворота». Указание очень ценное, так как синих ворот теперь и в помине нет.
Крепость была сложена из саманных кирпичей; ее толстые стены окружали довольно значительное пространство. Стоит она на топком месте, заливаемом паводками реки Улясутай. Река эта протекала по крепостным рвам. По четырем углам крепостной стены когда-то стояли башни, ныне же остались только развалины двух привратных башен. Внутри крепости теперь валяется разный хлам: негодная утварь, осколки китайского фарфора. Со стратегической точки зрения место для крепости было выбрано очень удачно: посреди долины, окруженной горами, образующими превосходную линию обороны.
Во время беседы с местными руководителями я спросил, есть ли в их аймаке госхоз.
— Теперь, к сожалению, нет, — прозвучал грустный ответ.
А раньше был?
— Был. Скотоводческий госхоз был.
— Что же, он плохо работал? Закрылся из-за нерентабельности?
— Нет, он хорошо работал, и инвентарь у него хороший.
— Так почему же его распустили?
— А его никто не распускал, просто он перекочевал в другой аймак.
В соседнем аймаке травы на пастбищах было больше и представлялись лучшие возможности для выполнения плана по животноводству. Поэтому-то госхоз снялся с места и перекочевал.
— Ну не беда, — говорят местные руководители, — в этом году мы организуем другой госхоз.
Вторую половину дня проводим за укладкой багажа. Пришлось разделить его на две части: у нас слишком много вещей для маленькой машины. Расстаюсь с чемоданом, пишущей машинкой и другими вещами, в том числе и с монгольским национальным костюмом. Сумья провожал нас часть пути, а потом распрощался и поехал в Улан-Батор.
По дороге встретилось огромное количество херег-суров — каменных надгробий. Находим камень с письменами, но прочитать их не удалось, так они стерлись от времени. Огромную груду камней, диаметром в несколько метров, превратили в загон для скота. Здешние надгробия можно хорошо использовать как укрытие, так как вокруг большого кургана с трех сторон располагаются маленькие.
Машина вспугивает отару овец, и они разбегаются во все стороны. Курдючные овцы передвигают почти одновременно задние ноги и смешно трясут курдюками. Задняя часть машины забита нашими вещами, на которых мы и сидим, что значительно удобнее, чем на жестких боковых сидениях. В общем путешествуем мы на сей раз с большими удобствами. В семь часов вечера прибываем в сомонный центр Тэлмин. В поселке всего три или четыре маленьких домика. В одном из них нам постелили раскладушки.
Утром завтракаем; за неимением лучшей посуды нам приносят завтрак в ведре. Жареная баранина с тушеным диким луком пересолена. Немного закусываем и отправляемся дальше. Вот и Северная Монголия, ландшафт, совсем изменился. Вершины гор покрыты лесами, а склоны и долины — кустарником и ползучими растениями. Вдоль дороги — большие развесистые деревья. Посреди небольшой узкой долинки сгрудилось несколько домиков. Небо внезапно покрывается тучами, сверкает молния, гремит гром, и на нас обрушивается проливной дождь. По долине протекает большая широкая река Мурэн. Слово мурын означает «река». На берегу у сосняка стоят два дома, один — гостиница, другой — жилище паромщика. Спасаясь от дождя, заезжаем в гостиницу. Хорошенькая босоногая монголочка быстро растапливает печь. Мы очень голодны, но, увы, чай соленый, захваченное с собой печенье пропахло бензином, простокваша перекисла, а мясо, которое нам подали в гостинице, оказалось несвежим. К счастью, у нас остался запас жареной баранины, которую мы и съели с огромным количеством дикого лука.
Через реку мы переправляемся на пароме. Машина с трудом въезжает на него, и громоздкое сооружение, увлекаемое течением, медленно доставляет нас на другой берег. Снова едем по узкой долине, два раза сбиваемся с пути, но все же в восемь часов вечера прибываем в Мурэн, центр Хубсугульского аймака. Многие населенные пункты я называю городами, хотя здесь, в Монголии, по праву городом можно считать только Улан-Батор. На старинных картах он обозначался как Улан-Батор-Хото. Хото — искаженное монгольское слово хот. Даже некоторые небольшие поселки из нескольких юрт называют хот аил. Слово аил означает «деревня из юрт» или, вернее, место, на котором стоят юрты. Итак, даже одинокую юрту называют аилом, так как она представляет собой населенный пункт. К аилу, кроме юрт, относят загоны для скота и все остальные хозяйственные строения. Аилы, состоящие из значительного числа юрт, когда-то называли халхаками, и они разбивались по определенному плану. Юрты обязательно ставились в один ряд. Юрта самого почтенного человека стояла на юго-западном конце ряда, за ней следовала юрта его младшего брата или сына. В крайней юрте на северо-западе жил самый последний бедняк.
Гостиница в Мурэне оказалась самой комфортабельной из всех, которые мне довелось видеть в провинциальных городах Монголии. Здание стоит в конце широкого двора. Стены комнат облицованы деревом. В номере ость отдельный кабинет с изящным инкрустированным письменным столом. Умывальник я сначала принял за вешалку, но потом научился им пользоваться. На резервуаре, подвешенном на высоте головы, — три кнопки. Нажимая их, вы открываете водопроводный кран. Не разобравшись что к чему, я сначала повесил пальто на одну из этих кнопок.
Хубсугульский аймак выделен в 1921 году. Своим названием он обязан одноименному озеру. Мурэн стал аймачным центром с 1923 года. Хубсугульский аймак занимает 102 тысячи квадратных километров. Здесь 60 сельскохозяйственных объединений и распахано 3 тысячи гектаров. В 26 школах — семилетках и десятилетках — учатся в общей сложности 6 тысяч ребят. Интересно, что в этом самом северном аймаке Монголии насчитывается 11,4 тысячи верблюдов, 155 тысяч лошадей, 237 тысяч голов крупного рогатого скота, 815 тысяч овец и 343 тысячи коз. Местные руководители, сообщившие нам эти данные, очень гордятся и дикой фауной своего аймака. Здесь водятся медведи, олени, дикие кабаны, волки, белки, барсуки, дикие кошки, дикие козы, зайцы, тарбаганы и многие другие звери.
Население аймака — пестрое по своему этническому составу. Здесь можно встретить дархатов, различные урянхайские племена тюркского происхождения, халха-монголов, бурят и китайцев. Последних здесь немного. Местные жители занимаются оленеводством, охотой, кочевым скотоводством и земледелием. Словом, этот аймак — настоящий рай для исследователей-этнографов. Мы решили не задерживаться в административном центре, расположенном в южной части области, и на другой же день поехать в Хадхал, на южный берег озера Хубсугул, а оттуда, если это удастся, переправиться и на северный берег.
Вечером в Доме культуры устраивают концерт в нашу честь. После окончания нас расспрашивают, какой номер нам больше всего понравился. Мы дипломатично хвалим мастерство местного ансамбля, но артистам хочется знать наше мнение об одном определенном номере. Мы не догадываемся, о чем идет речь. Оказывается, в программу был включен один венгерский народный танец, разъясняют нам огорченные исполнители. Тут я понял, в чем дело: один из танцев действительно напоминал переделанный на монгольский манер венгерский «закатолаш» (перестук). Оказывается, местный ансамбль обучала этому танцу венгерская группа на Московском фестивале молодежи. Чего уж тут отрицать, мы, разумеется, обрадовались бы настоящему венгерскому народному танцу, если бы узнали его! Но некоторые наши танцы действительно похожи на монгольские.
На другой день мы смогли выехать только в полдень, но уже в половине четвертого увидели неправдоподобно синюю реку, впадающую в Хубсугул, а вскоре показался и Хадхал. Когда-то это был аймачный центр, а теперь он стал торговым пунктом и речным портом, через который проходят все суда, курсирующие по озеру. Дома в Хадхале деревянные. Из степных просторов мы наконец попали в леса. Хадхал растянулся вдоль реки у подножия гор и со всех сторон окружен хвойными лесами. Нам отводят деревянный дом; в каждой комнате стоят по две печки, так как ночи здесь очень холодные.
Тут же отправляемся знакомиться с окрестностями города. Поднимаемся на ближайшую гору. Склоны ее пестрят душистыми цветами: желтыми и голубыми анемонами, примулами, бессмертниками, красными лилиями и многими другими незнакомыми мне цветами. К сожалению, сами монголы не знают названий цветов; они просто говорят «желтый цветок», «синий цветок», «луковичный цветок». Гамму тонов на палитре горного склона дополняют мох и лишайник самых различных зеленоватых оттенков. У подножия горы точно на страже стоит несколько сосен, а примерно с середины склона начинается густой бор и земля покрыта мягким ковром игл.
С вершины виден только небольшой замерзший залив Хубсугула и посреди него остров. Это и есть Хадхалский залив. Ниже острова, снежную белизну которого нарушают только сосны, стоит вмерзший в лед пароход и ждет, когда кончится его плен и начнется движение по озеру. Спускаемся по другому склону и оказываемся на берегу реки среди юрт, бараков, пристаней и пасущегося скота. Эгин-Гол не только издали, но и вблизи поражает своей синевой, его вода хрустально чиста. На противоположному берегу возвышаются горы, покрытые хвойным лесом.
На следующее утро беседую с местными жителями. Бурят Джалсрай, которому теперь 67 лет, переехал сюда в 1920 году из Сибири. Старик рассказывает, что в их деревне все жили в деревянных домах и там была всего одна старая юрта. Раньше бурятские юрты ставили так, что вход был обращен на восток. Уже его родители вели оседлый образ жизни. Но они хорошо помнили старые бурятские юрты и кочевую жизнь. Впрочем еще со времен его раннего детства скот зимой держат в стойлах. Его семья засевала полдесятины овсом, да еще и сена накашивала.
Позже захожу в юрту старика; она стоит тут же за домами. Вход в нее с юга, как и в соседних юртах, где живут халха. Но внутри кое в чем сохранился старый порядок. Алтарь находится на северо-западной стороне, то есть передвинут со старого места на западе, против находившейся на востоке двери, к северной стене. Очевидно, алтарь перемещается медленнее, чем прозаические предметы повседневного обихода.
Позднее в гостиницу к нам пришел мужчина из урянхайского племени сойот. Урянхайцами в Монголии называют представителей различных тюркских племен. Многие из них совсем омонголились, другие сохранили старые тюркские диалекты. Урянхайцы делятся по образу жизни на оленеводов, кочевников-скотоводов и охотников. Оленей они держат и как продуктивный скот, и для езды верхом и в санях. Побережье Хубсугула и горы Северной Монголии — самые древние центры оленеводческой культуры. Родители пришедшего ко мне в гости урянхайца были охотниками. Носит он монгольское имя Бадарч; так в старину называли странствующих монахов-сказителей. Бадарч еще ребенком покинул семью и переселился в Хадхал к родичам; но он часто ездит навещать своих и хорошо помнит, как они жили раньше.
У родителей Бадарча не было даже юрты; ее заменяло более примитивное жилище — шалаш из молодых сосенок, вершины которых связывались вместе. Стены были из сосновой коры, а входное отверстие прикрывалось козлиной шкурой. Все убранство состояло из неотделанных шкур, постеленных на земле, да трех камней посредине, на которые ставился котел. В таком шалаше ютились родители Бадарча, сам он и его два брата. Насколько он помнит, никаких правил, как и где ставить шалаш, не существовало, и вообще передвигались они мало. Обычно шалаш ставился у склона, защищавшего от ветра. Вход тоже делали с какой угодно стороны. Охотились на всевозможных зверей и птиц — на козуль, оленей, медведя, белку, лисицу, зайца, волка, сурка, орла, коршуна. Всех и не перечислишь! Бадарч хорошо помнит старое отцовское ружье, засыпавшееся черным порохом из пороховницы. Но отец предпочитал стрелять из лука, ведь стрела летит бесшумно. Чаще же всего зверей ловили при помощи капкана со стрелой. Я попросил Бадарча рассказать мне, что это за капкан. Тогда он пообещал изготовить его и принести мне.
Действительно, урянхаец через несколько дней принес уменьшенную модель капкана и подарил ее мне.
Это был обыкновенный лук, в котором движущей силой для метания стрелы была упругость согнутого в дугу дерева. Тетиву лучше всего изготовлять из кожи с шеи оленя; если же ее нет, то берут сухожилия или конский волос. Дугу лука вытачивают из сосновой древесины, длина его обычно около метра с четвертью, но зависит от того, на какого зверя охотятся. Через тропку, по которой звери ходят на водопой, протягивают два тонюсеньких шнура из конского волоса, не различимых в утренних или вечерних сумерках, когда обычно дичь идет к воде. Достаточно зверю наткнуться на шнур, и тот приводит в движение лук, посылающий стрелу в намеченную жертву. Знаменитые охотники расставляли до сотни таких луков, но, если у кого-нибудь их было 30–40, его уже считали добрым добытчиком. Капканы можно ставить где угодно, но надо уважать права других охотников и никогда не ставить свои ловушки слишком близко к чужим. Охотники обычно договариваются, кому из них где промышлять зверя. Но это не ведет к постоянному разделу леса на охотничьи угодья. Через определенное время каждый охотник ищет себе новые места.
Родители Бадарча не держали скота, но у него были родичи, разводившие оленей и крупный рогатый скот. Охота совмещалась с кочевым скотоводством. Чем меньше скота было у семьи, тем больше времени уделялось охоте. Разбогатев, охотники покупали скот и кочевали с ним на больших территориях в поисках лугов или лесных полян с хорошей травой. Здесь, на севере, скотоводство было менее выгодным делом, чем в южных районах.
Сам Бадарч уже не был охотником и не мог ответить на все интересовавшие меня вопросы. Я еще надеялся, что нам все же удастся перебраться через Хубсугул и найти людей, которые занимаются или занимались охотой. Но осуществить это мне не удалось, лед на озере был еще крепок, и никто не мог с уверенностью сказать, когда же в этом году откроется навигация.
Мне очень хотелось изучить охотничий образ жизни. Два вида охоты связаны с кочевой жизнью.
Один из них — охота гоном. Ранние китайские, тибетские и монгольские источники подробно рассказывают о больших кочевых охотничьих гонах. В жизни кочевников такая охота выполняла двойную роль. Прежде всего она служила дополнительным способом добывания пищи, особенно весной, когда скот не забивали, и, кроме того, была своеобразным военным обучением. Нам известно, что Чингис-хан часто устраивал такие охоты, совмещая их с военными маневрами, для воспитания в своих всадниках воинской дисциплины и хватки.
Но известен и другой способ охоты. Дальше на север, в лесах, где живут родители Бадарча, и еще севернее, на Алтае и в Саянах, обитал когда-то лесной народ. Много хлопот доставил он Чингис-хану и его предшественникам. Не один поход предпринял монгольский завоеватель против этого народа, пытаясь разбить его и стереть с лица земли. Лесной народ охотников и рыболовов состоял из различных племен и представителей разных этнических групп. Среди обитателей лесов были монголы, тюрки и многие другие неизвестные, теперь уже вымершие группы. Порой они совершали набеги на земли кочевников и снова уходили в гущу лесов, служивших им надежной защитой.
Для кочевников охотничья добыча была лишь дополнением к их обычной трапезе, даже в тех случаях, когда они добывали дичь не гоном, а в одиночку и арканом, как приходилось это делать юному Темучину, ловившему петлей мелких зверей. Но для лесных людей охота была основным источником существования и главным занятием. Меха были выгодным товаром, их очень ценили в далеких землях и платили за них хорошие деньги.
Пушнина из этих лесов еще в глубокой древности по великим торговым путям попадала в отдаленные страны. Главный из них известен в истории под названием «Пушного пути». Меха с Саян и Алтая доставлялись на берега Черного моря, а по Амуру — к Тихому океану. Торговые связи способствовали контакту различных культур.
Но охотничьи народы Южной Сибири устанавливали связи с кочевниками не только для того, чтобы переправлять меха через их территорию. Бывало и так, что группы охотников покидали леса, спускались в степи и становились кочевниками-скотоводами. Нам известно, что именно так поступили венгры. Они отделились от угро-финских племен, занимавшихся охотой и рыболовством где-то возле Урала, вышли из лесов и превратились в кочевников. Именно тогда венгры, видимо, и установили тесные связи с тюрками. Такой переход от лесной к степной жизни, разумеется, не мог совершиться внезапно; для этого потребовалось много времени. Нельзя представлять себе дело так, будто венгры, пешие охотники за лесным зверем, вдруг решили прекратить это занятие, вышли из лесов, купили лошадей и стада и предались кочевой жизни.
Многие исследователи стараются объяснить такое коренное изменение венграми своего образа жизни каким-то толчком извне, другие ставят под сомнение возможность столь резкого преобразования жизненного уклада. Истории кое-что известно о подобных переменах в жизни других народов, но непосредственных наблюдений за этими процессами никогда не велось. С этой точки зрения очень интересны две особенности, присущие тюркским охотничьим племенам Северной Монголии. Прежде всего тюрки охотятся верхом, а конная охота — более высокая ступень, облегчающая переход к кочевому скотоводству. Вторая особенность заключается в том, что некоторые охотничьи племена занимаются одновременно и скотоводством. Иногда они уделяют этому больше времени, иногда — меньше. При сильном падеже скота люди возвращаются к охоте, а разбогатев, перестают охотиться и целиком посвящают себя скотоводству.
Кроме различных урянхайских племен, пограничные северо-западные районы Монголии вплоть до Кобдо населяют еще две небольшие тюркоязычные группы: мончаки, или тувинцы, и теперь уже полностью омонголившиеся хотоны. В окрестностях Кобдо мы встретились с несколькими людьми из племени чанту (узбеками), переселившимися из Китая.
Район Хадхала населяют главным образом дархаты. Слово дархат, или в единственном числе дархан, означает, собственно, «кузнец», но так называют в Монголии всех ремесленников. Кузнецы когда-то играли большую роль в жизни монголов, да и любого другого кочевого народа. Тюрко-монгольское слово темур, или тимур (железо), входит составной частью в имена властителей великих держав — Темучина и Тимур-ленга. Нет ничего удивительного в том, что кузнецы пользовались уважением в пастушеском обществе, ведь они изготовляли не только важнейшие части конской сбруи (удила, стремя), различные инструменты, кухонную утварь (котел, крюк для котла, посуду), но и оружие (саблю, пику, наконечники для стрел, щиты, кольчуги и т. д.). Даже там, где монгольские орды истребляли все местное население, ремесленников обычно не трогали. Чингис-хан и его преемники привозили на берега Орхона искусных мастеров со всех концов света. Ремесленники пользовались рядом привилегий: их не облагали налогами, предоставляли им особые права и т. д. Слово дархан употреблялось и в смысле «необлагаемое налогом имущество». В самые давние времена, в первобытном обществе, кузнецы, вероятно, занимались не только своим ремеслом, но и знахарством. О почетной роли кузнецов в кочевом обществе свидетельствует и высокий титул тарканъ (ср. с дархан), фигурирующий в ряде венгерских географических названий.
Теперь, разумеется, уже не выяснишь, что общего между современными дархатами, проживающими на берегах озера Хубсугул, и древним народом ремесленников-знахарей. Но старики дархаты прекрасно помнят, что у них был свой особый образ жизни, совсем иной, чем у халха-монголов. Еще и теперь они по обычаям и языку сильно отличаются от окружающих их халха-монголов и бурят.
Как-то утречком идем в гости к нашим новым знакомым дархатам, юрта которых стоит недалеко от Хадхала. Особенно подружились мы с одним старым пастухом. Усаживаемся вокруг очага, и старик рассказывает нам о старой дархатской жизни. Разговорились о женитьбе, и я попросил, чтобы старик подробно описал нам старинный свадебный обряд.
— Свадьба? У нас такого обычая вовсе не было! — изумляет нас своим ответом старик.
— Ну а когда парень и девушка решали создать семью, то это должно было сопровождаться какими-то торжественными обрядами? — спрашиваю я.
— У нас нет… Мы похищали девушек!
— А как же вы их похищали? — настаиваю я.
— Да это совсем не интересно, — охладил мой пыл хозяин юрты, — у нас все так делали.
Юноша и девушка заранее договаривались о дне похищения. Парень просил свою избранницу запереть на ночь собак, а девушка говорила ему, в какую доску каркаса на западной стороне юрты, где она спала, должен постучать похититель. Родители ничего не подозревали. Юноша приезжал ночью с друзьями или один, тихонько стучал в стену, и девушка, забрав под мышку седло, висевшее у нее в изголовье, выскальзывала из юрты. Юноша вешал на дверь юрты шелковый платок — хадаг, чтобы утром родители поняли, куда девалась их дочь и что у ее похитителя серьезные намерения. Молодые мчались на лошадях в аил к родителям жениха, где для них ставилась юрта. В установке юрты участвовали все родичи жениха под руководством пожилого и опытного мужчины. Потом из родительской юрты приносили огонь и зажигали очаг в жилище новобрачных.
Но на этом свадебный обряд не кончался, вернее сказать, он с этого только начинался. В течение трех дней после похищения ближайшие родичи юноши — его отец, старший брат или дядя по матери — должны были пойти к родителям девушки в качестве сватов.
— А если родители девушки не хотели ее отдать? — перебиваю я рассказчика.
— Тогда они возвращали шелковый платок и не давали приданого, состоявшего главным образом из шкур. Если парень очень любил девушку, его родители приходили во второй раз.
Но редко бывало, чтобы родители препятствовали молодым вступать в брак. Мой собеседник не знал ни одного такого случая. Родители ведь хорошо знают, что они не могут разлучить парня и девушку, если те любят друг друга.
Юрту для молодоженов устанавливали рядом с отцовской, к северу от нее. Дверь дархатской юрты выходит на восток, поэтому западная сторона в ней задняя. Некоторые старики утверждают, что раньше дверь выходила на юг и что теперь еще в некоторых дархатских юртах, стоящих среди халха-монгольских, дверь открывается в эту сторону. Дархаты различают восемь сторон света.
— Юрта подобна часам, — объяснял нам старый дархат, — лучи солнца, проникающие через дымовое отверстие, каждый раз падают в другую сторону, и по ним можно узнать точное время.
Спускается вечер, приносят зажженные свечи, а я продолжаю свои записи при свете карманного фонарика, батарея которого почти на исходе. Юрта наполняется людьми, приходят соседи и по нашей просьбе принимаются петь. Голоса поднимаются все выше, мелодия парит в воздухе. Свеча гаснет, мой карманный фонарик тоже, и лишь пламя очага освещает лица певцов.
Уже два раза приходили звать нас домой, но посланцы тут же усаживались в общий круг и включались в хор. Возвращаемся к себе только в полночь.
Через несколько дней снова идем к нашему другу. Узнав, что я интересуюсь старинными книгами, он вытаскивает свою единственную, бережно хранимую тибетскую священную книгу и дарит ее мне. Это происходит так неожиданно, что я сразу не могу придумать, чем отблагодарить старика. Не успеваем мы распрощаться со старым дархатом, как приходит женщина и просит зайти к ней. Отказаться нельзя. В юрте живут только две женщины: мать, пригласившая нас к себе, и ее 23-летняя дочь. Обе они работают в Хадхале. В их юрте очень уютно и чисто. Безделушки, занавески, покрывало на кровати и цветы свидетельствуют о хорошем вкусе и любви к порядку хозяек, создавших такой приветливый уголок. Дочь, краснея, поет для Кары песню, потом каждому из нас дарит по шелковому платку. Мы тоже передаем им маленькие сувениры и прощаемся.
Весь этот день проходит под знаком визитов и подарков. Не успеваем вернуться к себе, как нам передают приглашение от нашего бурятского друга Джалсрая. Старик принимает нас по-домашнему в рубашке, угощает чаем, а затем велит жене подать ему одежду и шапку. Мы думаем, что Джалсрай хочет нас куда-то повести, а он вытаскивает из сундука очень красивый, инкрустированный серебром нож в ножнах и прибор для разжигания огня. Потом старик надевает шапку, все мы торжественно поднимаемся с места и он с глубоким поклоном обеими руками протягивает мне подарок, завернутый в синий шелковый платок. Концы платка уложены так, что отвернуть его можно только в мою сторону. Это означает, что подарок предназначен мне. У монголов для приветствия и вручения подарков установлен особый ритуал, и он соблюдается со всей строгостью: жесты левой и правой руки, поклоны, одежда дарящего, завертывание подарка в платок — все это заранее предусмотрено. Если что-нибудь будет сделано не так, то акт дарения считается недействительным, может даже превратиться в оскорбление.
Джалсрай объясняет, что нож полагается носить за поясом с правой стороны. Войдя в юрту, следует вытащить нож и положить его на скамью в знак мирных намерений. Если же мне придется пользоваться ножом во время еды, то ни в коем случае нельзя поворачивать его острие к присутствующим и особенно к хозяину юрты. Это считается проявлением враждебных намерений.
Пьем за здоровье друг друга, и только тогда Джалсрай снимает шапку.
Возвращаясь от Джалсрая, проходим мимо строящегося дома, и я отмечаю интересные технические приемы. Дома в Хадхале большей частью бревенчатые, щели между бревнами заполняются мхом, а на углах бревна заходят одно в другое. Некоторые дома белят; тогда к бревнам прибивают доски, чтобы поверхность стен была гладкой.
Однажды утром совершаем экскурсию к озеру, хотим побывать у дархатов, урянхайцев и бурят. Наш путь лежит через поселок на другой стороне реки, где мы запасаемся бензином. Тут к нам присоединяется несколько местных жителей. Прямо из поселка углубляемся в лес.
Здесь начинаются дремучие леса. Сначала нам еще попадаются открытые поляны и мелколесье, но чем дальше продвигаемся мы на север, тем гуще становится лес. Хотя под высокими соснами почти нет подлеска, все похоже на непроходимую тайгу; бурелома так много, что пробираться через него — дело нелегкое. О весне напоминают цветы, распустившиеся по краям дороги и на опушках.
Грунт местами болотистый, топкий, машина продвигается рывками, нас бросает из стороны в сторону. Через час выезжаем из леса — и перед нами Хубсугул. Увы! Он все еще покрыт льдом! Если верить календарю, то сегодня 21 июня. Наши спутники говорят, что обычно навигация на озере открывается с 25 июня, но впереди пароходов пускают ледоколы. В этом году зима затянулась. Зато осенью до первых чисел декабря Хубсугул свободен ото льда и навигация проходит без помех.
Берег озера дик и гол. Лес отступает далеко от воды; ближе к озеру попадаются лишь одинокие деревья, скрюченные и унылые. Машина с трудом подъезжает к самой кромке озера, трясясь по кочкам. У берега на расстоянии полметра лед уже растаял. Мелкие зубцы на его краях искрились. Но подальше только трещины предвещали скорое освобождение озера от ледяного панциря.
Дорога вся в рытвинах: приходится вылезти из машины и идти пешком. Вот на склоне ближайшего холма белеет юрта. Поднимаемся к ней. Здесь живет супружеская пара; муж — халха-монгол, жена — бурятка. Их единственный ребенок, сынишка лет четырех, играет в юрте. Передняя часть головки у него выбрита, а сзади сплетены две косички, к которым привязаны серебряные украшения. Женщина с детства живет среди халха-монголов и совсем забыла бурятские обычаи. Семья держит скот, пасущийся на берегу, но и охотой не пренебрегает, о чем свидетельствуют шкуры, повешенные для просушки. Рядом с юртой стоят сани. Зимой здесь передвигаться на санях легче. Монголы саней не знают, но здешние жители переняли их от бурят, а те в свою очередь — от русских соседей.
Проводим полдня на берегу озера, потом возвращаемся в Хадхал. После обеда едем в ближайший аил. Там знакомлюсь с другой семьей: муж — дархат, а жена — урянхайского происхождения. Меня очень интересует уклад жизни таких смешанных семей. В скотоводческих племенах жен никогда не брали из родственных семей; иногда за невестами ездили очень далеко; девушек похищали насильно или склоняли уговорами. Различные кочевые племена постоянно смешивались, и уже в самые давние времена монголки попадали в тюркские юрты, а тюркские девушки становились женами монголов. Процесс этот усилился во времена завоевательных походов. Покоренные народы не только становились рабами или данниками победителей, но и смешивались с завоевателями. Смешанные браки приводили к заимствованию чужой культуры и языка, к появлению новых предметов и новых слов. Культура и язык любой народности Центральной Азии сложились под влиянием многочисленных соседей. Связи между кочевыми народами гораздо теснее, чем между расселившимися по соседству оседлыми народами.
Не лишено интереса, что в любом обществе хранительницами культурных традиций и языка выступают женщины. Это вполне понятно, если мы вспомним, что женщины после замужества никогда не удалялись от семейного очага. Они не участвовали ни в больших охотничьих гонах, ни в военных походах. По какому бы делу ни отправлялся муж в дальний путь, жена оставалась дома. Она воспитывала детей, и когда ребенок начинал лепетать, то говорил на языке матери. Женщины и дети, кроме привычных кочевых троп, ничего другого не видели и не знали.
Женщина, с которой мы разговорились, принадлежит к урянхайскому племени ариг. Несмотря на то что ее муж монгол и сама она уже давно живет среди монголов, родной язык ею не забыт. Наша хозяйка помнит все урянхайские названия предметов домашнего обихода, и прежде всего кухонной утвари и обстановки. Муж тоже знает многие из этих слов и, когда жена их перечисляет, помогает ей. Интересно, что среди урянхайских слов, которые муж перенял от жены, есть и монгольские слова, неизвестные местным дархатам или иначе ими произносимые. Очевидно, слова были заимствованы у монголов еще далекими предками хозяйки. Некоторые из них через урянхайцев снова попали в язык дархатов.
Соседняя юрта убрана совсем по-городскому. Хозяин ее, в прошлом рабочий на одном из заводов Хадхала, выдвинут на руководящую работу. Теперь он народный судья, а его родители до сих пор пасут стада в районе Баян-Дзурха. Хозяин предлагает нам стулья. Мы отказываемся, предпочитая сидеть вместе с ними на войлочных кошмах. Расспрашиваю его, как полагается сидеть в юрте. Хозяин отвечает, что есть много способов, и у каждого свое название. Самым унизительным считается цэхурун судж, когда становятся на колени и потом опускаются на пятки. Когда-то так сидели перед господином или перед изображениями богов в храме. Поэтому старики не любят сидеть в этой позе. Сидеть со скрещенными ногами, или, как у нас говорят, «по-турецки», лучше. Монголы называют эту позу дзамилинг или дзевилдж судж. Сиденье на корточках, чомчадж судж, считается самым респектабельным. Если кто-нибудь сгибает только одну ногу и сидит на пятке другой, то согнутая нога должна быть ближе к двери, независимо от того, на какой стороне юрты он сидит. Через дверь проникает в юрту злой дух, и согнутая нога защищает от него человека. Если же кто-нибудь хочет вытянуть одну ногу вперед, то сделать это дозволяется только по направлению к двери; вытягивать ногу к северу, то есть к задней стене юрты, более чем неприлично. Сидеть с двумя вытянутыми ногами считается такой неотесанностью, что человек, принявший такую позу, сразу же приобретает дурную репутацию.
Монголы чаще всего сидят на корточках, или, как они сами говорят, «пешком» или «на ходу» (явадж судж). Сидят они чуть опираясь на щиколотки и могут сохранять такую позу несколько часов. Я попросил, чтобы все вышли из юрты и разрешили мне заснять различные позы сидящего человека. Позировали мне два монгола, не носящие традиционной монгольской одежды, скрывающей ноги. Мне хотелось точно зафиксировать на пленке и зарисовать различные позы.
Не только манера сидеть, но и вся осанка отличает монголов от европейцев. Уже издали по походке можно догадаться, кто перед вами — городской житель или степной наездник. Последний в тех редких случаях, когда он ходит пешком, наклоняет вперед верхнюю часть туловища, слегка откидывает назад голову и закладывает назад руки. Ритм у него совсем иной, чем у человека, не ездящего верхом.
В третьей юрте сидит совсем дряхлый старик. Хотя ему уже перевалило за 70 (у монголов этот возраст считается очень древним), он все еще ездит верхом. Впервые хозяин сел на коня в возрасте 14–15 лет; до того он пешим сторожил отцовские стада. Очевидно, здесь, на севере, в лесостепи, образ жизни иной, чем на юге. Старик плохо слышит, но с готовностью отвечает на вопросы. У его родителей, кроме крупного рогатого скота, было еще три-четыре лошади и штук 16 овец. Будучи старшим сыном, подростком он пас лошадей. В течение года семья пять-шесть раз перекочевывала с места на место, но если погода была хороша, а трава обильна, то пастбища меняли реже. Зимой уходили в лес, разбивали юрты по возможности у подножия южных склонов, в защищенном от ветра месте. В маленьких аилах было по четыре-пять юрт, не обязательно родичей, а просто так знакомых. Во главе аила всегда стоял самый старый и почитаемый или самый богатый арат, он-то и давал указание, куда перекочевывать, где пасти скот. Теперь в каждом аиле избирают руководителя, который распоряжается перекочевками.
Мы только начинаем входить во вкус, и в моем блокноте вопросы накапливаются быстрее, чем ответы, но срок нашего пребывания подходит к концу, и спутники настаивают на возвращении в Мурэн в срок, зафиксированный в маршруте экспедиции.
Нас угощают прощальным обедом из рыбных блюд. В Хадхале лучше, чем во всех монгольских городах, умеют готовить рыбу. С болью в сердце расстаемся с гостеприимным городком и едем в аймачный центр.

Караван на отдыхе
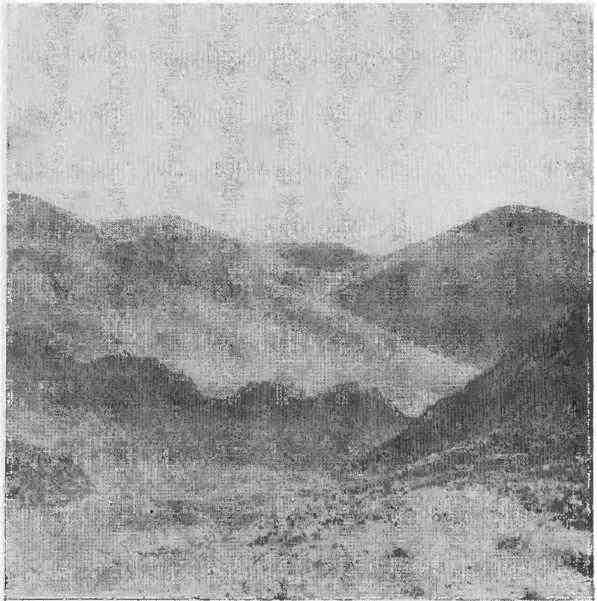
Среда гор, уходящих в небо
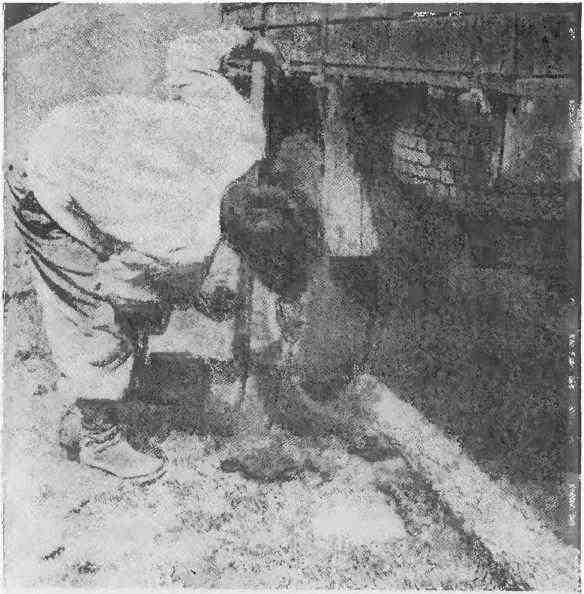
Мы застряли!

Улица в Улясутае
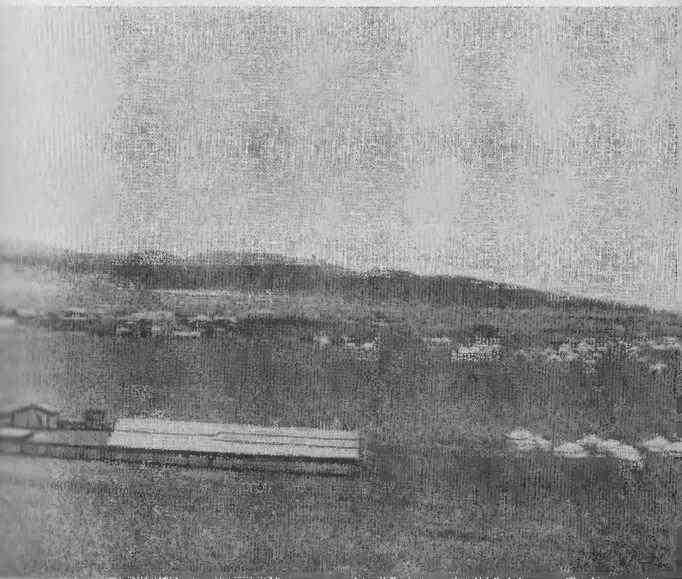
Юрты и деревянные строения госхоза

Вид на Хадхалский залив
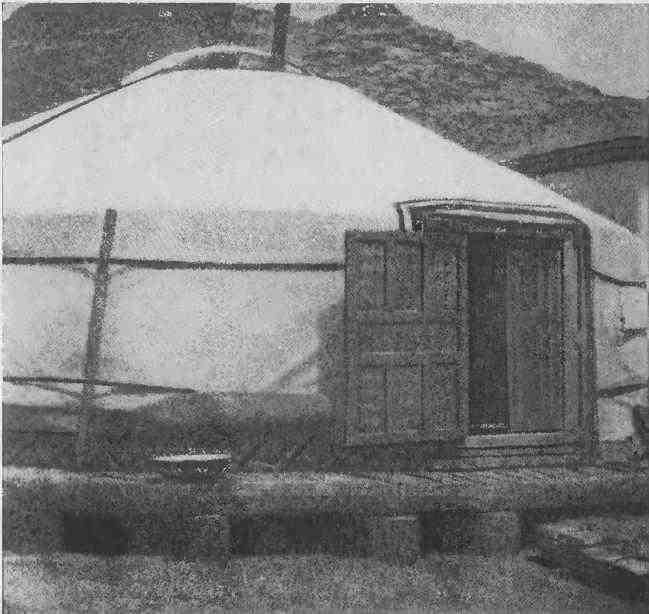
Хозяин этой юрты больше не кочует

На берегу Мурэна

В Хадхале строится новый дом

Различные позы сидящих монголов

Заброшенный жертвенник

Древние тюркские надгробные плиты

Паром на Селенге
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК